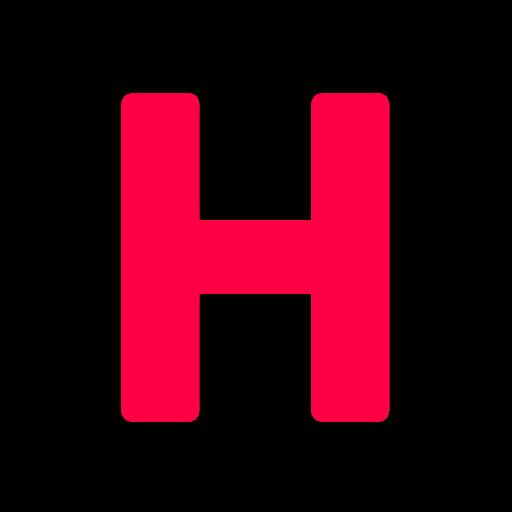Убитая горем жена красноармейца Вани Сугакова спрашивает: «Как он погиб? Почему молчите? Неужели все его товарищи погибли? Обидно мне, медработнику, сознавать, что Ване, возможно, никто не оказал никакой помощи, а я здесь оказываю помощь десяткам людей. Где его орден? За него должна получить пособие его малолетняя дочь…» и т. д.
Отвечаю большим письмом, в котором, как могу, утешаю ее, пишу, что Ваня убит был сразу (о том, что от разрывной пули вспыхнула бутылка с горючим и что одновременно с тяжелым ранением он загорелся и горел живым факелом,— об этом не пишу, писать этого нельзя), пишу, что раненым помощь оказывается немедленно, что орден его остался, кажется, у него на груди…
Писал я отцу Уманского, матери Котицына, жене Николаева и многим другим родственникам наших бойцов и командиров. Ни одно письмо не остается без ответа. Пересылаю им деньги убитых, документы, фотографии. Только что получил письмо жены Хотинского. Вскрыл. Прочитал. Она полна тревоги, но пока ничего не знает. Некоторые места ее письма можно читать любому бойцу — пусть знают, что переживают сейчас ленинградцы, как болеют душой за всех нас. Письмо написано очень образно — видно, культурная женщина. Вот бы Зое в подруги — в их переживаниях, манере письма есть что-то общее. А может быть, я ошибаюсь — просто сам стосковался по хорошим письмам и потому со слезами на глазах читаю чужое письмо; думаю, этим я не сделал ничего плохого…
Все-таки какое изумительное по своей правдивости письмо. Грешен — люблю такие письма, возможно, и буду когда-нибудь «инженером человеческих душ». Так и подмывает ответить. Но нельзя. Во-первых, не стоит сообщать, что я читал его; люди стыдятся оголять свои чувства перед посторонними (и правильно делают!). А во-вторых, еще рано писать после первого предварительного письма. Как много высоких чувств рождает в душе такое письмо…
«Желаю тебе жизни…»
Так получилось, что письма Тамары Хотинской прочтены в связи с дневником Ростислава. Но если бы сохранились только листки, написанные ее рукой,— их следовало бы опубликовать: письма ленинградки из блокадного города. Она пишет очень дорогому ей человеку, другу. Да, у каждого из них появилась новая любовь, Но были общая юность, друзья, город, искусство, десять самых лучших лет.
«Мы были молоды, бедны, я понимаю…». И — богаты исканиями и надеждами. Тамара верила в талант Ростислава, она и в войну, оберегая от обстрелов, прежде всего запаковала его работы. Взяла в эвакуацию их переписку. Как жаль, что все это не сохранилось! Как любила она, чтобы в доме— гости, чтобы — шум, восторги. И еще — когда вдруг соберутся все — и мать с отчимом, и брат Ледик приедет, и друзей полон дом, и все вечера музыка, споры. Все это теперь воспринималось как счастье.
Ленинград. 2 сентября 1941 года. Милый мой, дорогой Славик! Я получила твое письмецо, но с очень большой за держкой. Что с тобой, что с вами? Пиши, если можешь, почаще. Так тяжела и трудна сейчас жизнь, а письма служат таким утешением. Сейчас четыре часа ночи, я дежурю в тресте. Вечер был тяжелый, и спала я только три часа, не сердись, если письмо будет бессвязное.
Тресту очень не везет. Недавно в него попал снаряд — в ту комнату, где мы работали. Пробило стену, но, к счастью, все успели выйти до этого и никто не пострадал. В прошлое же мое дежурство была сброше на бомба в соседний дом. Понюхала смерти, теперь знаю, что это такое, и теперь особенно волнуюсь за вас, кто смотрит ей в лицо каждую минуту. Бедный мой мальчик. Я знаю, ты рассердишься на меня за это слово, но все же, дорогой мой, прими это просто как ласку. Как тяжело и страшно видеть ужасы войны, и думать о них! Когда же кончится эта война и мы сможем зажить по-прежнему! Как хочется вернуть наш прошлый, каждый мирный день.
Милый Славик! Я хочу, чтобы ты был здоров и бодр, я хочу, чтобы ты вернулся, как после финского фронта, целый и нерастраченный. Писем тебе нет ни от мамы, ни от Аси. Я думаю, что они лежат на почте. Пришли мне доверенность. Мама, наверное, думает, что мы уехали, а Ася просто не хочет писать на мой адрес, зная, что тебя здесь нет. У Аси все в порядке: Аня получила открытку, в ней она просит поцеловать тебя. Где лежат фото с твоих работ? Я хочу их спасти, но не знаю, где найти. «Девушку» я запаковала, а остальное в очень плохом материале, их никуда не уложишь. Из писем я уложила только нашу переписку, это и то немало. Дома очень холодно, мы перебрались в одну комнату, а хотим переехать в кухню — там плита и маленькие окна.
Ленинград. 11 ноября 1941 года. Милый мой Славик! Уже давно я жду от тебя письмо и очень-очень волнуюсь. Тем более после того, как ты обещал нам свой визит. К тому же я запуталась в ваших почтовых ящиках. Но вот ждала-ждала, а от тебя все ничего нет, пишу на всякий случай, вдруг дойдет. Очень все ждем тебя и Степу, говорим часто о вас и вспоминаем. Передай ему привет от всей нашей семьи. Я получила девятого числа письмо из флота от Трусова Ивана Кузьмича. Помнишь ли ты его? Он мне представился и написал, что будет писать регулярно в первые числа каждого месяца до конца войны или до смерти. Очень растрогал он меня своим письмом. Он хочет с тобой переписываться, просил твой адрес. Напиши ему. Больше ни от кого писем не получала, а потому новостей тоже пока особенных никаких. Да я теперь их не очень люблю.
Я сижу дома — чересчур простужена. Не болею, но сильно кашляю. Нет ли надежды, что вас отпустят на денек на побывку? Может быть, мимо проходить когда-нибудь будешь? Пользуешься ли ты своими лыжами, пригодились ли вторые? Ведь снег теперь глубокий. Все желают тебе счастья и удачи. А обо мне и говорить не приходится. Если бы мои пожелания ограждали от несчастий, то я могла бы быть совсем за тебя спокойной. Будь крепкий и здоровый. Целую тебя крепко. Жду письма. Твоя Томка.
Ленинград. 13 декабря 1941 года. Милый Славик! Очень беспокоюсь о тебе. Погода сейчас такая морозная и вьюжная, все думаю, как тяжело тебе работать. Как-то ты там? Мы держимся. Да же няня теперь всегда слушает радио и в курсе всей международной ситуации, и чувствуется, что верит и надеется. Сегодня- сказала мне: «Да, я тоже пережить все это хочу и посмотреть, что будет». А это уже большой сдвиг, раньше все умереть хотела. Сил только мало, и это ужасно пугает. Ведь не знаешь, сколько нужно еще ждать, а ресурсов не остается. Страшно было бы потерять кого-нибудь из близких. Вот и боюсь за всех и волнуюсь. Мы все трое чуть припухли, но все же это еще совсем немножко. На улице нас сравниваю с другими и чуточку успокаиваюсь. Еще ничего — жив курилка. Мы очень рационально съедаем свой паек. Каждая наша кроха у нас проблема: как, что и когда съесть. Решаем, что полезней, и пр. В общем, с научной точки зрения. Мне кажется, только благодаря этому режиму крепче и держимся, чем другие. В общем, в том, что зависит от нас, не подкачаем. Остальное же не в наших руках.
У няни осталась от праздников бутылка вина. Она все хотела в Новый год с тобой выпить, потом сменять хотела на еду. Но теперь уж я настаиваю, и кажется, мне удалось уговорить ее, принимать по рюмочке с чаем, как лекарство. А менять мы не мастера: никак не выходит, даже у мамы. Сноровка нужна. Плохо, что мы мерзнем зверски. Сейчас это особенно мучительно. Никак не оттопиться — отовсюду несет морозом. Решили отдать один наш паек конфет за буржуйку, а самим потерпеть, иначе не сделают. От хлеба же отказаться еще трудней. Может быть, тогда согреемся. Вот и все наши новости. Чепуха все это. Так хочется знать о тебе. Хотя бы просто: жив, здоров. Больше ничего не надо. Отчего ты молчишь? Пиши скорее. Целуем тебя крепко-крепко все, ждем, ах, как ждем!
Ленинград. 25 декабря 1941 года. Мой милый, мой дорогой Славик! Я подчеркнула сегодняшнюю дату не случайно. Она особенная — эта дата. Для всех ленинградцев, и для меня в особенности. Четверг, 25 декабря 1941 года — ее надо помнить. Сегодня нам прибавили хлеба, и хлеб этот — не толь ко хлеб, который мы научились так ценить, так уважать и любить, и который является нашей жизнью, это — не только хлеб. Это наша победа. Этот маленький кусочек хлеба обещает нам так много и так много вливает радости и бодрости в сердца.
И наконец, наконец — твои открытки. Тут уж я не выдержала и слезу пустила. Ты жив и здоров! Если бы ты знал, сколько говорим о тебе и как волнуемся! И ты жив и здоров — это так очевидно говорят твои открытки за 17 и 20 декабря. Такое счастье! И такие бодрые и обещающие открытки, какие давно уже хотелось получать. Поплакала еще немножко по поводу смерти незнакомого мне Володи. Так жалко, боже мой, как жалко всех, таких хороших, таких молодых! И еще мысль — это было рядом (рядом!) с тобой. Ах, Славик, дорогой, как хочу я, чтобы мои пожелания могли сохранить тебе жизнь и здоровье во всех испытаниях, которые уже есть и которые будут. Да будет так! (Береги лягушонка.) И наконец — что за необыкновенный день!— еще одна открытка от тебя — от 22 декабря. Она такая хорошая, такая бодрая, так много силы и радости принесла она нам.
…Сегодня 25 декабря. Сегодня день твоего рождения. Я это помню очень хорошо. Пусть этот день окажется для тебя счастливым. А через шесть дней Но вый год. Это не такой Новый год, который мы привык ли встречать всегда. Нет приготовлений и разговоров за месяц, нет маскарадных костюмов и запасов бутылок, нет бенгальских огней и фонариков, и главное, нет всех тех, без кого не встречала Новый год, без ко го стол не стол и праздник не праздник. Нет всего этого — нас трое, три женщины и еще одна женщина, мать недавно убитого на фронте бойца. Она живет в нашем доме, мы познакомились в убежище, она одинока и страдает больше нас. И есть желание — желание встретить этот Новый год, от которого больше требуешь и ждешь, чем могли бы мы требовать и ждать от прошлых таких дат.
Вас не будет с нами, хотя мы бы так хотели этого, дорогой, но мы встретим его за вас и душой будем вместе. Мы затопим печку, сварим погуще суп, может быть, с макаронами, мы откроем бутылочку вина и выпьем за ваши, за наши победы, мы выпьем за наши мечты, за будущую хорошую жизнь. Мы пошлем вам столько теплоты и сердечности, столько пожеланий, что грешно им было бы не исполниться.
Милый Славик! Где бы ты ни был в это время, в каких бы условиях ни находился, знай, что я все-таки встречаю Новый год вместе с тобой. Встречаю его в нашем милом, родном Ленинграде, пусть под грохот артиллерийских снарядов, но в нашем, который никогда не будет «их» городом.
Твоя последняя открытка говорит, что ты не сможешь писать. Я это понимаю, но это очень грустно. Я понимаю, что будут горячие дни, и в них я желаю тебе, всем вам успеха. Но пришли мне потом, когда сможешь, письмо, написанное своею рукой. Я жду его. Согласен ли ты с моими планами, о которых писала в прошлом письме? Правильно ли я надумала? Конечно, это все еще очень далеко и в порядке мечтаний, но все же — «Кто может запретить мне мечтать?»