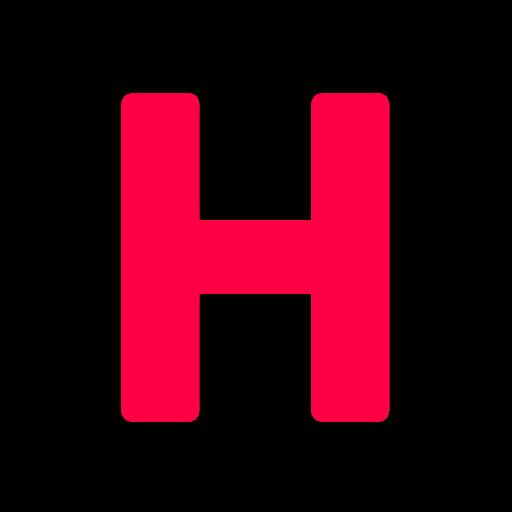Путь домой лежит через Берлин — привычно было думать так, пока мы воевали на Юге. Но война приносит и неожиданные подарки.
Из Крыма довелось лететь на ТБ-3, который еще в недавней «табели о рангах» считался грозным бомбардировщиком, олицетворявшим нашу авиационную мощь. Уязвимый и тихоходный, несмотря на свои четыре мотора, он теперь сменил боевую профессию на транспортную. Война быстро сдвигала многие устоявшиеся представления. И подчас несла самые неожиданные повороты в судьбе. Вот и меня снова привела домой в Москву — пусть лишь на одну ночь.
С аэродрома за городом, на котором мы вечером приземлились, удалось попутной машиной добраться к центру. Торопливо шагал по улицам, еще вчера казавшимся несбыточно далекими, впитывая в себя вновь их знакомые черты. Вот и наш до боли родной Мамоновский переулок с серым кубом Театра юного зрителя и знакомым забором напротив, у сада, куда мы ребятами лазали играть в футбол,— действительно ли я нахожусь здесь?.. Никогда, наверное, не бывает дороже места, чем то, где прокатилось быстротечное детство; война усилила, обнажила это чувство дома, тягу к прошлому, к семье. Ноги сами собой побежали.
Письма от матери изредка уже доходили, и я знал, что она с полгода назад вернулась из эвакуации, работала на фабрике. Хоть и вечер, но не известно, как там работают — застану ли дома? Сердце стучало сильнее, сильнее… А увидел ее в дверях — поседевшую, маленькую, словно сжатую невзгодами, что-то сразу оборвалось внутри, затрепетало.
— Ты? — Она испуганно отшатнулась, проведя рукой по глазам, точно отметая зыбкое видение.— Сынок, ты! Это ты!..
И стала медленно опускаться у порога. Пожалуй, и меня уже пол держал плохо. Почти всю ночь мы не спали, но говорили, как ни странно, мало. Прочитали вместе немногие письма отца из 41-го года и, конечно, задержались на последнем, помеченном 30 сентября: «Мы готовимся к настоящим боям и готовимся как следует. Ты не беспокойся, скоро напишу еще…» С тех пор его писем мама не получала, других известий тоже — началось сражение под Вязьмой, и дивизия московских ополченцев, куда добровольцем вступил отец, оказалась на острие гитлеровского наступления.
— Может, еще узнаем что-нибудь, не плачь. Бывает так.
— Где там, сынок. Сердце не обманывает. Знаю: без вести — и остается без вести. Оттуда не возвращаются…
Теперь-то я понимаю: это запавшее в память «оттуда не возвращаются» было сказано вообще о войне, матерей она страшит прежде всего тем, что губит их детей. А тогда казалось неловким, даже отдаляющим нас, что, держа в руках последнее отцовское письмо, она говорит не о нем — обо мне, повторяя сквозь слёзы, как заклинание:
— Береги себя, сынок. Один ты у меня остался. Береги, береги…
Рано утром добрался обратно на аэродром, испытывая от этой краткой встречи двойственное чувство: счастливого прикосновения к теплоте родного дома и горестного ощущения безысходной незащищенности матери. Потом был Ленинград, уже встрепенувшийся под весенним солнцем от долгой блокады, но хранивший ее жестокие шрамы: завалы мешков с песком прикрывали знаменитые памятники, на Невском пустоты разрушенных домов заслоняли фанерные щиты с намалеванными «фасадами» зданий — грубые протезы на благородном лике израненного города…
Дальше ехали на машине по Приморскому шоссе, местам отгремевших боев. Проскочили Стрельну, первый городок, куда довелось наяву вернуться из горькой памяти 1941 года,— отсюда мы улетали тогда на восток, пройдя сполна испытания огнем и совестью. Впереди лежал Петергоф — дивное чудо России. Три года назад, когда я, еще курсантом, был здесь последний раз, он сверкал живым серебром фонтанов, над которыми красовался бронзовый Самсон, раздирая пасть льву, притягивал грациозным изяществом Большого дворца, великолепием живописного парка. Теперь от дворца остались лишь почерневшие, местами обрушенные стены, дальше тянулись пустыри с такими же темными скелетами- руинами… Горечь утрат и радость возвращения — как смешиваются они в сознании? Наверное, у каждого по- своему; у меня подступал ком к горлу.
…Новым местом дислокации стало для нас Куммолово. В который раз за войну приходилось осваиваться после перебазирования, но теперь это было совсем не то, что прежде, даже сравнения никакого. Последние землянки рыли в Анапе, крымскую недолгую страду пережили в палатках, а здесь могли позволить себе расположиться в домах поближе к аэродрому — сила в небе была уже наша! Да и привычным стало многое, набрались ума- разума — знаем, как развернуться, чтобы и дело не страдало, и к девочкам успеть сбегать, если, конечно, в округе есть гражданское население.
Устроились в заброшенном, пустом, но на удивление целом двухэтажном здании. Только начали приборку, и вдруг:
— Смотрите, пчелы!
Они выползали через щели в полу на втором этаже, словно вылупливались из-под ног, и цепочкой летели к разбитому окну, навстречу другим, которые возвращались той же дорогой. Пасека в доме? Вскрыли доски пола и увидели между перекрытиями аккуратно уложенные ульи. В них оказалось полно меда, и мы, отмахиваясь от пчел и терпя боль укусов, неумело вытаскивали соты — редкое лакомство. А мысли все возвращались к тому, как сюда могли попасть эти ульи.
— Выходит, спрятал кто-то пчелиные семьи под пол, от врага подальше!
— Может, еще в первые дни оккупации. Это сколько же фашисты тут держались?
— Считай, с августа 1941-го. Накопился запас…
«Пчелиная война» вписалась мимолетным веселым эпизодом в будни войны настоящей.