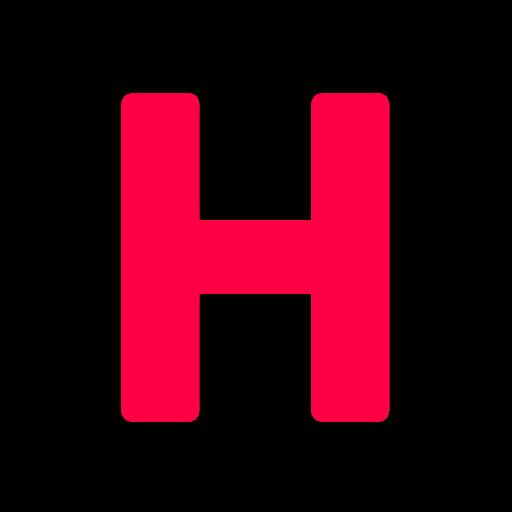Фашизм – эпидемия фанатического насилия, крови и разрушения. Гитлеру удалось довести немецкую нацию до дикого изуверства, ввергнуть ее в состояние психоза. Убедить немцев, будто они превыше других людей земли. Огромная, культурная нация в самом центре Европы, нация, давшая миру знаменитых философов, естествоиспытателей и поэтов, помрачилась. Развязала свои самые низменные, самые звериные инстинкты. Дошла до крайней черты социального вырождения, безрассудства и слепоты. Размеры и жестокость развязанной гитлеризмом войны во сто крат превосходят все, что знала мировая история до сей поры. И вот что писали немецкие солдаты домой.
Письма немецких солдат
Обер-лейтенант фон Ширах боится быть обойденным при дележе. В приказе по своему подразделению Ширах требует, чтобы награбленное сносилось в одну кучу и распределялось по заслугам: “Всякая добыча, — поясняет обер-лейтенант, — является собственностью вооруженных сил”.
Заметьте, добыча! Принадлежали, к примеру, штанишки мальчику Ване, а теперь они составляют собственность немецких вооруженных сил. И самовар тетки Аксиньи. И поросенок, выкраденный из колхозного свинарника. И золотой зуб, выбитый у старого учителя. Спасибо, герр обер-лейтенант, за юридическое разъяснение того, что есть разбой. Охваченные коричневым угаром, фашисты твердо уверовали в свое право грабить и разбойничать. Они даже удивляются, даже негодуют, когда мы сопротивляемся и бьем их. По мнению фашистов, мы воюем совершенно не по правилам.
Пять тысяч шестьсот пятьдесят пять писем немецких солдат, приподнимающих завесу над гитлеровским фронтом и тылом. Письма, красноречиво подтверждающих неудачу блицкрига. Фашисты разгромлены под Москвой. Не удалось им с ходу захватить и Ленинград. Отборные дивизии основательно завязли в болотах. Для фашистского рейха, для его грабь-армии наступают тяжелые времена. Они еще хорохорятся, совершают кровавые оргии, но в пьяных бандитских песнях чувствуется надрыв, пессимизм, а порой и безнадежное отчаяние. Вот выдержки из их писем:
“Нам опять пришлось пережить много тяжелых и жутких часов”.
“Третий день бьет советская артиллерия. Сплошной ад. Много убитых”.
“Вши. От них никакого спасения”.
“Наши морды в грязи и порохе. Не умывались 18 дней”.
“Сегодня опять не будет еды. Кухня разбита”.
“Бесчисленные партизаны причиняют нам большие потери”.
“Невыносимые холода. Минус тридцать пять по Цельсию. Обмундирование летнее”.
“Русские бушуют всю ночь. А сегодня начался такой огонь, как будто наступил конец света”.
“Нужно иметь счастье, даже много счастья, чтобы уцелеть в этой войне”.
Но счастья не предвидится. “В течение семи ночей русские обстреливают с двух сторон. Стрельба продолжается и днем. Место, в котором мы лежим, настоящий ад. Мы окружены. Наш взвод совсем растаял. Лучших из лучших мы уже недосчитываемся”.
Солдат 506 полка 291 дивизии Вальтер Шель пишет на родину: “Дорогие Пеги и Ганс, сообщаю, что я еще жив, но не совсем здоров. У меня такой понос, что не приходится застегивать штаны. Отчего это, не знаю, на нервной почве или от плохой пищи. Обращаться к врачу все равно, что к корове. Он сидит в блиндаже, а мы в снегу”.
Да, невесело. Животы расстраиваются. Нервишки пошаливают. А ведь вначале все рисовалось в радужных красках. Восточный поход? Простая прогулка. Победный марш. Блицкриг. Война продлится до наступления холодов. Так полагал и лейтенант Рихард Топп. Свой дневник он начинает с похождений во Франции. То были поистине райские денечки. Топп подробно перечисляет места, в которых побывал. Пишет, что делал, с кем встречался. Педантично перечисляет сколько чего съел и выпил, со сколькими девочками любезничал. Фашистское нашествие на Советский Союз возбудило в нем необыкновенный прилив спеси и фанфаронства: “Честолюбивые мечты, желание ясности, поиски уравнения — все это для меня включается в понятие — полевая часть”.
Однако, чем ближе к фронту, тем меньше ясности. На душе кошки скребут. В дневнике меланхоличная запись: “Кто знает, когда пробьет мой час!” Тем не менее храбрится: “Мы делаем свои сердца твердыми и крепкими. Мы — готовы!”
На одной из станций он видит эшелон с русскими военнопленными. Измученные люди вызывают в нем ярость: “Никакого сострадания. Никакой гуманности. Все во мне дрожит от злобы и негодования. Кончики пальцев зудят от желания взяться за приклад”.
Отвага умопомрачительная. Перед ним безоружные люди, и он, видите ли, нисколечко не испугался их. Но вот и фронт. Бравада улетучивается, гаснет, как спичка на ветру. Одиннадцатого сентября 1941 года Топп отмечает: “Ночи под крышей кончились. Начинается окопная жизнь”.
Ничего хорошего она не сулит, однако он все еще резонерствует: “Нигде нельзя в такой мере увидеть внутреннее величие наряду со скрытой трусостью, как в окопе”.
День ото дня хуже и хуже. Размышлять, философствовать недосуг, все заботы о спасении своей шкуры. Записи идут в скупом телеграфном стиле: “Зарываемся в землю”. “Лежим в своих окопах”. “Дождь, плащ-палатки не спасают”. “Наступает холодная неуютная ночь”.
Сильно потрепанное подразделение отводят на отдых. “Это дает ощущение счастья”, — отмечает Топп в своем дневнике.
Счастья мнимого, эфемерного. И снова телеграфный стиль. Никакого желания ясности, никаких поисков равновесия. И честолюбие побоку. Главное — выжить, уцелеть: “Многие солдаты оставили здесь свои кости”. “Утром атака собственных самолетов на наши позиции”. “Голод”. “Отход”. “Срочно требуются запасные кальсоны”. “Тяжелые потери”. “Мы лежим под огнем”. “Господи, спаси и помилуй”. “Но спасения нет: адский огонь!”
На этом дневник обрывается. Честолюбие? Жажда отличий и наград? Мечты о блистательной карьере? О пышном параде на Невском проспекте? Увы, мечты несбыточные. Вместо железных есть, оказывается, и кресты березовые, и колы осиновые.
К исходу ноября 1941 года фашисты потеряли под Ленинградом 216 тысяч убитыми и ранеными. Сбито и уничтожено на земле 1484 самолета. Захвачено 759 орудий, 679 танков, много стрелкового оружия и боеприпасов. Практика, в общем, говорит, что возвышенные мысли о фюрере не спасают от русского адского огня.
Волей-неволей приходится кидаться в мистику, среди немецких военнослужащих распространяются всякого рода амулеты, ладанки, изображения ангелов-хранителей. Ефрейтор Герман Вейвильд, получивший березовый крест под Войбокало, хранил у себя “Охранную грамоту”. “Кто переписал это и имеет при себе, — значится в этом сакраментальном документе, — тому ничего не повредит. В него не попадет вражеская пуля, ибо его хранит бог. С ним ничего не произойдет. Орудия и шпаги, пистолеты и винтовки — все должно замолчать по указанию архангела Михаила. Тот, кто имеет при себе эту грамоту, тот защищен от всяких опасностей. Кто не верит этому, пусть перепишет грамоту, повесит собаке на шею и выстрелит в упор. Собака останется невредимой, и сомнение исчезнет. У кого есть эта грамота, тот не попадет в плен и не будет ранен врагом. Его тело и внутренности не будут повреждены”.
Не очень грамотно, зато обнадеживающе. Таковы они, немцы, разбойничающие с изображением архангела Михаила за пазухой. Суеверные, ограниченные, оболваненные мозги. Черствые, жестокие, кованные из “немецкого железа” сердца.