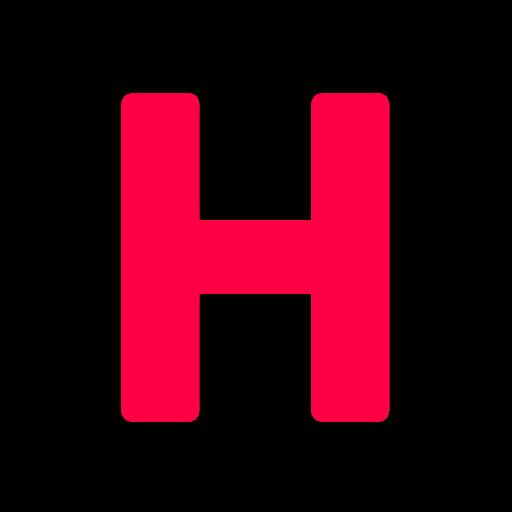В предрассветной мути загорелись сигнальные ракеты. Зеленая, за ней две красные. Зуев, тревожно ждавший их, встрепенулся. Инстинктивно сжал холодный ствол ППШ. Судорожная волна пробежала по хребту, шевельнула волосами под пилоткой. Тело его разом напряглось, переполнилось энергией, желанием риска, испытания собственных возможностей.
Атака!
Бойцы, поднятые решительной командой «Вперед!», пригибаясь, торопливо семеня ногами, рассыпаются по болотному редколесью. Поспешают вслед за огневым валом своей артиллерии. Так надежней. Во избежание лишних потерь этого требует боевой устав пехоты. Пока враг оглушен, жмись вплотную к разрывам своих снарядов. Подбирайся поближе, а там «ура!» и — врукопашную!
Испытывая чувство геройской отваги, Зуев несется в первых рядах. Сеет впереди себя пригоршни свинца. Сидя в окопе, прикидывая на глазок расстояние до вражеских позиций, полагал Зуев, метров четыреста — пятьсот, не более. Теперь же эти метры кажутся бесконечными. Сердце не умещается в груди. Толчками отдается в висках. Дыхание становится хриплым и прерывистым. Секунда, и Зуев не выдержит. Но вот, словно на состязаниях по стайерскому бегу, приходит второе дыхание. Становится удивительно свободно, легко, по-мальчишески озорно. Зуев на ходу меняет диск автомата. Кричит свирепо и неистово:
— Бей фашистов! Ур-р-а!
Ни страха. Ни малодушия. Ни единой мысли о возможной смерти. Чувство самосохранения притупилось, заглохло. Русская удаль, богатырская отвага в разгоряченной крови. «Есть упоение в бою!» По всей линии атаки нарастает гвардейский натиск. Последние метры. Последний рывок. Вперед! Сквозь пулеметный заслон. Сквозь ветер встречного огня!
Фашисты, отстреливаясь, покидают свои позиции, немцы вообще не пренебрегали отступлением во Второй мировой войне. Мелькают зеленые спины в узких ходах сообщения.
— Ага! Черти голопузые! Запомнится вам болото Ковригина Гладь!
Из глубины неприятельской обороны ударили орудия. Куда ни глянь, дыбятся фонтаны торфянистой земли. Звонкие разрывы больно отдаются в ушах. Жужжат осколки над головой. Вперед, Зуев, вперед! А он заспотыкался. Неуклюже шатнулся набок. Бегущий следом окопный друг его, Шарифутдинов, поспешил к Зуеву:
— Что случилось, браток?
— Нет, нет, — запротестовал Зуев, — я сам. Давай вперед!
В животе его что-то жгло невыносимым огнем. Потом стало холодеть и вроде бы таять. Ноги не слушались. Дневной свет стал меркнуть. Зуев упал, перевернулся на спину и застыл. В диком хороводе кружились перед ним деревья, теряя постепенно краски и очертания. Звуки боя приглохли и отдалились. Последнее, что успел отметить воспаленный мозг Зуева, был аспидно-черный клок неба, просвечивающий сквозь ажурную крону березы.
Долго ли, недолго находился Зуев в полном оцепенении, определить он не мог. Минуту? Час? День? А может, целую вечность? Напрягая мозг, старался вспомнить, как было дело. Но мысли были отрывочными, бессвязными, ускользающими. Деревья по-прежнему хороводились перед глазами. Земля качалась, зыбилась, плыла.
Очнулся оттого, что онемела подвернувшаяся за спину правая рука. Зуев с трудом высвободил руку, но оттого, что зашевелился, усилилась жгучая боль в животе. В гудящей голове постепенно стали воссоздаваться подробности боя.
Стараясь не тревожить живот, Зуев нашарил и придвинул к себе автомат. Опасливо коснулся ладонью живота. На клочьях гимнастерки налипли комья загустелой крови. Мысль о том, что у него распорот живот, ужаснула Зуева. Как теперь быть? Где санитары? Куда девался Шарифутдинов? Зуев скрежетнул зубами. Слабым голосом позвал на помощь. Прислушался. Никакого отклика. Словно в пустыне. Словно на необитаемом острове.
Солдату невыносимей всего остаться забытым на поле боя. Надеясь, что его услышат, он закричал снова, завыл протяжно и жалобно. Попытался подняться, оглядеться. Но, едва шевельнувшись, снова ощутил режущую боль в области брюшины. И снова наступила кромешная тьма. Долгое беспамятство. Забытье.
Снова пробуждается. Холодная испарина покрывает лоб. Напряженный слух ловит чей-то стон. Протяжную, тихую жалобу. Значит, еще кто-то пострадал. Неужели и Шарифутдинов? Он или не он? Так нет же, это стонет сам Зуев, хотя и боль вроде стала терпимей. И кровотечение остановилось. Только страшная разбитость во всем теле. И тошнота. Сами собой смыкаются веки. Спать, спать, невыносимо хочется спать.
А что, если это последний сон? Беспробудный, вечный? Если это небытие, конец жизни? Не все ли равно. Рано или поздно все отправляются туда.
— Двух смертей не бывать, а одной не миновать, — говаривал его командир отделения сержант Безуглый.
Пробудился оттого, что начало сильно припекать солнце. Долгое время Зуев лежал без движения. Размышлял о жизни и смерти. Прислушивался к убаюкивающему шелесту листвы. К негромкому птичьему пересвисту. Сухой треск валежника заставил насторожиться. Лесной зверь или человек? Свой? А если фашист? Не приведи господи, попасть в лапы недругов. Не миновать тогда пыток и надругательств. Своими глазами видел замученных советских солдат. Гитлеровцы выжигали пятиконечные звезды на их телах.
Снова трещит валежник и вроде людская речь. Подать голос или затаиться? Зуев инстинктивно подтягивает к себе ППШ. Умирать, так умирать с музыкой. Живым Зуев не дастся. Но теперь треск вроде отдаляется, растворяется в древесном шуме. И шаги, и людская речь. Неужели то была лишь слуховая галлюцинация? А может, случившееся с ним тоже лишь кошмарный сон? Видение. Сейчас он поднимется, отряхнется и пойдет разыскивать своих.
Испытывая суеверную надежду, Зуев ищет под ногами упор, хочет подняться. Но усилия его лишь сильнее растравляют рану. Новый приступ отчаяния и тоски охватывает душу Зуева. И снова подлые мысли о конце копошатся в его голове.
К полудню Зуев снова оказывается на солнцепеке. Надо передвинуться вслед за тенью. Сцепив зубы, Зуев приподнимается на локтях. Снова падает. Но уже на несколько сантиметров в стороне. Новое усилие. И еще несколько сантиметров в сторону густой березы. Теперь малый бы глоток воды. Губы растрескались до крови. В горле саднит. Каплю, одну каплю влаги.
Вечерняя прохлада пробудила Зуева окончательно. Живительный холодок росы подействовал успокаивающе, прибавил веры, прибавил сил. Зуев сделал новую попытку и наконец сел. С большими предосторожностями подвел под распоротый живот каску. Облегченно вздохнул. Глянул по сторонам. По-прежнему вокруг ни единой души. Только слева где-то за ольшаником слышны натужные моторы. Видимо, там дорога. А значит, люди. Там его спасение. Там — жизнь.
Зуев опять прилег. Уперся каблуками в корневище березы. Сдвинулся с места. На пять, десять сантиметров, а все же ближе к дороге. Новое усилие, и еще пять, десять сантиметров. Минутами он терял сознание. Пробуждался и полз, придерживая каску у живота. Когда под лопатками ощущалась болотная влага, он пригоршнями загребал мох и жадно обсасывал его. Отдыхал минуту, другую и снова полз, полз настойчиво, упрямо, с небывалым остервенением.
Светили звезды ему в глаза. Прозрачной кисеей вился по небу Млечный Путь. Нехотя погромыхивали орудия с нашей и неприятельской стороны. А Зуев полз и полз. Тянул за собой автомат на сгибе локтя. Пока жив, оружие должно быть при солдате. Иначе на фронте нельзя.
Постепенно начинает светать. И дорога кажется почти рядом. Теперь стать бы на ноги. Зуев приваливается к березе. Упирается затылком. Приподнимает плечи. Снова упирается затылком. Выше, выше по шершавому стволу. В потревоженном животе жжет огнем. Надо отдышаться, переждать, пока успокоится боль. Теперь снова затылком, плечами, хребтом выше и выше по стволу. Не выронить бы каску. Вот так! Вот так! Хорошо. Молодец, Зуев.
Раскачиваются, каруселью кружатся деревья. Кругом идет голова. К горлу подкатывается тошнота. Крохотный бы глоток воды. Влаги, пропитавшей болотный мох. Ноги совсем не держат. Хочется снова лечь. Повалиться наземь — и будь что будет.
Нельзя тебе, Зуев, слышишь, нельзя предаваться отчаянию. Не такой ты человек. Напрягая тело, собирая остатки душевных сил, Зуев делает первый шаг. Стоит, покачиваясь. Ловит ртом воздух. Делает еще шаг. Как великую драгоценность, обеими руками держит перед собой каску. Прижимается плечом то к одному, то к другому стволу дерева, мычит от боли. Движется дальше, головой раздвигая низко нависшие ветки.
Последний ракитовый куст. За ним — дорога. Не веря себе, Зуев всматривается в рассветную серую мглу. Делает еще несколько нетвердых шагов. И вот радость, под ногами бревенчатый, слегка пружинящий настил. Надо идти, а сил уже нет. В березняке можно было прислониться к дереву, отдышаться, передохнуть. Совсем иначе на открытом пространстве, никакой опоры. Сесть посреди пути рискованно. День еще не рассвел. Могут и наехать ненароком.
Зуева шатает. Гнет к земле. Сейчас он рухнет. Пропадут тогда долгие усилия его. Все же надейся, Зуев. Человек до той поры и жив, пока теплится в нем надежда. Держись за нее изо всех сил. В ней твоя самая главная опора. Слышишь, ты слышишь? С детства знакомый тарахтящий звук удерживает Зуева на ногах. Тихий, далекий, он все ближе и ближе. Неужели повозка? Тарахтит под передком пустое ведро. Постукивают колеса, пересчитывая бревна поперек пути. Легонько пофыркивают мохнатоногие савраски. Помахивая кнутом, мурлычет песню ездовой. Воротник шинели поднят. Пилотка нахлобучена до ушей. Свежо поутру.
Поравнявшись с Зуевым, ездовой натягивает вожжи:
— Далече путь держишь, служивый?
Удивленно таращит глаза, качает головой:
— Батюшки! Эк разворотило тебя! Господи милосердный!
Поспешно соскакивает с повозки:
— Давай-ка пособлю, земляк. Медсанбат не далее как за тем холмом.
Подхватывает словно младенца, бережно укладывает на повозку. Кладет ему под голову свой вещмешок, укрывает плащ – палаткой. Не перестает твердить:
— Ну и дела, ну и дела, господи милосердный.
На повозке Зуеву становится совсем невмоготу. Колеса прыгают. Повозку кидает из стороны в сторону. Подбрасывает. На какое-то время Зуев теряет сознание. Очнувшись, спрашивает:
— Далеко еще?
— Та недалече, — с готовностью откликается ездовой, — сейчас, земляк, сейчас будем на месте. И утешает:
— Ты не сомневайся. Раз выдюжил до сей поры, выдюжишь!
Те же утешительные слова услышал Зуев и от хирурга, сразу положившего его на операционный стол. Во время утреннего обхода на другой день он подсел к нему на койку, долго слушал пульс, осматривал. Вполголоса давал необходимые распоряжения сестре. Удовлетворившись осмотром, весело заговорил с Зуевым:
— Видать, в рубашке ты родился. Осколок только по касательной чиркнул по брюху. Кишки почти не задел. Подлатали мы твой живот, зашили, заштопали. И, глядишь, снова станешь как кум королю.
— Спасибо, доктор, — прошелестел синими губами раненый, — не знаю, как и благодарить вас.
— Себя благодари, — махнул рукою хирург, — ты сам поборол свою смерть. Шутка ли, двое суток без медицинской помощи. Три с половиной километра полз от передовой. И не как обычно, а на спине. Непременно зачтется тебе, Зуев, и то, что не оставил оружия, хотя и очень худо было.