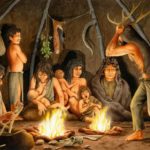Была я медсестрой в перевязочной сортировочного отделения огромнейшего, на 2 тысячи коек, сортировочного эвакогоспиталя N 1170.
В ноябре 1941 г. стала операционной сестрой стационарного отделения, так называемого “осадочника”. Сюда направляли нетранспортабельных раненых, требующих срочной противошоковой терапии, первоочередного хирургического вмешательства. Среди них особое место занимали раненые с анаэробной инфекцией – газовой гангреной (по народному – “Антонов огонь”).
Раненый, о котором я хочу рассказать, был из их числа. Он поступил в первой половине дня с небольшой осколочной раной нижней трети голени со слабо выраженными признаками анаробной инфекции. Его, как полагалось, срочно оперировали и поместили в послеоперационную палату для наблюдения.
Внешне то был незаурядный человек: крупный, высокий, тело налито силой, мощью, несокрушимостью. Большие серые глаза умели улыбаться, в них светились искорки ума и доброты. У него была удивительно белая, бархатистая кожа, плотно обтягивающая все тело.
Конечно же этим он очень отличался от наших недоедавших воинов, с присущей им дистрофией, с телом покрытым серовато-желтоватой тусклой кожей, сморщенной, сухой, свободно свисающей и болтающейся. Этот же наш пациент, даже поверженный, казался несокрушимым богатырем – Ильей Муромцем.
Через некоторое время ему стало хуже. Его снова взяли на стол. Оперировали. Потом еще раз, сделали ампутацию в верхней трети бедра и широкие разрезы на спине. Но все было напрасно… Мы оказались бессильными – не было специфических активных лекарственных препаратов. Память до сих пор хранит горечь и боль.
Вскоре в нашем госпитале были начаты и успешно проведены исследования и практическая работа по созданию нового антибиотического препарата, активного по отношению к микробам-возбудителям анаэробной инфекции.
Подробно об этой работе рассказывает Марина Валентиновна Гликина – инициатор, организатор и руководитель исследования, столь сложного, многогранного и нужного. Я счастлива была своим небольшим участием в этой работе, которую выполняла в качестве волонтера.
Когда препарат уже успешно применяли наружно, и надо было испытать его действие при внутримышечном и внутривенном применении, в блокадном Ленинграде, где не было ни собак, ни кошек, требуемых для испытаний, нашлись кролики! Невероятна но факт.
А мне предстояло ввести препарат в тоненькую венку на ушке животного.
Никогда не забуду тот солнечный ясный день, когда Марина Валентиновна, микробиолог Людмила Павловна Крутикова и я шли в клинику ВИЭМа, где содержались кролики. Шли и переживали, только бы не было ни тревоги, ни обстрела, только бы успеть проскочить.
Нам повезло. Пришли, поднялись по лестнице, открыли большую высокую дверь и в просторной, залитой солнцем комнате увидели на двух хирургических столах сереньких кроликов. Они были здоровыми и сытыми, с гладкой блестящей шерсткой.
Перед каждым – горка нарезанной свежей ярко оранжевой моркови. А в углу сидела служительница, вся в черном, запрокинув голову, с опущенными на колени руками. Пока мы делали свое дело, она сидела неподвижно, не проронив ни единого слова.
Этим берегла силы, чтобы потом обиходить животных, а следовательно, способствовать при эксперименте правильному ответу. И кролики ответили: препарат пригоден для внутривенного применения.
Теперь еще меньше будет разрезов на телах, пораженных стряпаной инфекцией, меньше будет ампутаций, меньше инвалидок, меньше смертей. Это была огромная победа (Элла Соломоновна Фишкова)